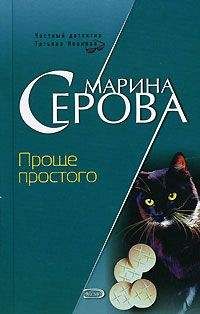Юлиу Эдлис - Ждите ответа [журнальный вариант]
— Еще похлеще, пожалуй, — не скрыл Иннокентий Павлович.
— А вы — банкир, значит? Молодо-зелено, а уже банкир… — покачал головой Петр Степанович то ли с удивлением, то ли с сочувствием.
— И даже как бы вскорости в банкротах не довелось побывать, — и этого не скрыл гость, — да пока Бог пронес.
— На Бога надейся, а сам не плошай, — нравоучительно произнес миллионщик, — особенно если ты с деньгами имеешь дело. Деньжищи — они ум туманят. Вот, к примеру, тот же я: как узнали братья и прочая родня, что на революцию деньги извожу — это им из полиции, само собой, дали знать, — они меня тоже банкротом хотели было объявить. Да не вышло: кредит-дебет — не придерешься. Так они надумали меня в сумасшедшие, в умалишенные определить — это я-то ума лишен, да его у меня всегда палата была! Ну и наняли ученых профессоров, а те за деньги чего не признают?! Вот и проснулся я в одно прекрасное утро аж в Швейцарии, в психиатрической клинике за решеткой, да еще сторожа дюжие в белых балахонах стерегут почище наших держиморд. — Опять помолчал, добавил спокойно как о чем-то давнем и забытом, быльем поросшем: — Там и помер, так и не дождавшись не то что светлого царства разума, но даже и какой-никакой революции. Там и схоронили в чужой землице, а ведь у нас в Москве загодя такую фамильную усыпальницу на мои же денежки отгрохали на Преображенском, староверческом! Небось сами там со всеми удобствами покоятся, брательники мои единоутробные. — И заключил, будто гроб свой гвоздями заколотил: — Очень по России тоскую, будь она неладна!
— А как же вы в этом доме опять очутились? — задал без надежды на ответ единственно интересующий его вопрос Иннокентий Павлович.
— А не помню, — спокойно ответил Петр Степанович. — Не знаю. А может, это опять бред, от которого меня лечили ледяной водой в той Швейцарии. Или тоска по России… Не помню, да и помнить — зачем? Россию-то любить только из далёка и можно, вон как Гоголь — из Рима, это я где-то вычитал, но похоже на правду. Россию я только в Швейцарии и любил по-настоящему, рукой махнув на все ее безобразия. Да и что нам остается любить, как не Россию, какая она в душе у нас живет, больше-то ничегошеньки в ней, по правде говоря, и нет, кроме этого самого вечного бунта…
Сазонов о чем-то надолго задумался, потом глубоко вздохнул, словно с чем-то навек прощаясь, сказал как попросил о чем-то самом для него важном:
— Будешь в Женеве — сходи на православное кладбище, могилу найти легко: «Сазонов Петр Степанович», поговорим про Россию… А теперь иди, что-то не до тебя мне стало. А деньги возьми, сгодятся, все одно вам без революции не обойтись, поверь моему слову. Только расписочку оставь, так уж заведено. Тебе ли, банкиру, этого не знать, без расписки ни полушки хоть родному брату не доверяй. Небось потому и обанкротился, что доверчивый был, а этого нам никак нельзя, банкирам. Иди, иди с Богом, дай-ка я тебя обниму, навряд ли свидимся еще. Расписался? Ну иди, иди.
И проводив Иннокентия Павловича до порога, крепко обнял его своими крестьянски-тяжелыми ручищами, расцеловал троекратно и запер за ним дверь.
Мимо порядком уже выцветшего полотнища с будущим «Русским наследием» Иннокентий Павлович вышел на Покровку. Выбросил в ближайшую урну толстую пачку «екатеринок», более столетия назад ставших обыкновенными бумажками.
Загадка так и осталась загадкой. Ответа нет — ни аршином общим не измерить, ни умом не понять, остается только верить. Во что?.. Вот она, шарада, крестословица. Клинопись — уже не прочесть…
19
Колесо завертелось, наращивая обороты, издали, из-за Уральского хребта, из-за Полярного круга.
Вскоре после появления в банке загадочного Ивана Ивановича Иванова, за спиною которого маячили ослиные уши уж и вовсе безымянных тяжеловесов отнюдь не в белых перчатках, а в бойцовских, налитых свинцом рукавицах, — словно по чьему-то приказу, по указанию со скрывающейся за облаками «крыши мира» в газетах зачастили статьи о неладах в «Русском наследии». Самое занятное заключалось в том, что Иннокентий Павлович глазом не успел моргнуть, как был зачислен в наиболее опасные для власти «олигархи» со всеми вытекающими из этого категорическими намеками и прилагательными, от которых до прокуратуры и суда рукой подать.
Начали не с самого банка, а, словно бы разбегаясь до необходимой скорости и энергии, с пусть формально и не принадлежащих ему тюменских нефтяных владений.
Там всеми делами заправлял, и со знанием дела, с приобретенными еще в прежней своей, дороссийской жизни навыками мальтийский братец Левона Абгаровича — такую уж стратегическую диспозицию избрал по здравом размышлении спонтанно сложившийся триумвират: нефтяными и прочими промышленными делами занимался бывший островитянин, биржевыми операциями, с прирожденным своим неуемным темпераментом и ловкостью, Левон Абгарович, а уж вершиной этой растущей не по дням, а по часам Хеопсовой пирамиды был — день ото дня все более номинально — сам Иннокентий Павлович. Истинной же душою и движителем всей этой тянущей на миллиарды империи стал как-то исподволь и совершенно, как казалось даже самому Иннокентию Павловичу, естественно, не кто иной, как Абгарыч.
Для начала налоговые кладоискатели обнаружили и предали широкой гласности недоимки за добытую и реализованную нефть, особенно за проданную по лицензиям за границу. Хотя и весьма округленные и раздутые для вескости, суммы недоплаченных в казну денег произвели на слепо верящую печатному слову публику загодя разжигаемое газетами же впечатление: раз «олигарх», так наверняка казнокрад и жулик, пора уж называть вещи своими именами!
Да и известная доля истины в том, по правде говоря, крылась — мальтийский кузен по прирожденному либо ставшему второй, если не первой, его натурой островному своему мышлению никак не мог взять в толк, за что платить непомерные налоги государству, от которого он не видел на деле ни на йоту пользы, а, напротив, одни административные глупости и полнейшую неразбериху в действующих законах и подзаконных актах, в которых сам черт ногу сломит. Тем более что рвение к их неукоснительному соблюдению — как успел убедиться на новом поприще жизни этот пересаженный на чуждую почву мальтийский рыцарь от коммерции — у каждого чиновника, как бы высоко ни вознесла его служебная стезя, имело совершенно определенный эквивалент в денежном выражении. Вот тут-то, проникся он глубочайшим убеждением, скупердяйничать никак не следовало. Тем более что по его, не раз и не два выверенным расчетам взятки, раздаваемые им направо и налево всевозможным наделенным хоть малейшей властью мздоимцам, были вполне сопоставимы с суммарным объемом недоплаченных непосредственно казне налогов.
Будь мальтиец поевропеистее, он бы мог даже сослаться на от века известную в юриспруденции формулу, так или иначе если не оправдывающую, так хоть теоретически обосновывающую его жизненное кредо: «минимизация налогов».
Его-то карательные инстанции и избрали для почина козлом отпущения — легкая добыча: ни он сам, ни Иннокентий Павлович, ни даже предусмотрительнейший и осторожнейший Левон Абгарович не хватились вовремя оформить ему российское гражданство. Иностранный подданный, да еще государства, которое не на каждой карте и отыщешь, без дипломатического или какого иного иммунитета, беззащитный островитянин вроде Пятницы из классического романа для юношества, он вполне годился для того, чтобы именно с него начать вить веревочку, которая на манер Ариадниной нити рано или поздно приведет к обреченному Минотавру, а именно к «Русскому наследию».
И тем не менее и кузен-чужестранец, привыкший у себя на острове к правоохранительным нравам более гибким и не столь скоропалительным, и Левон Абгарович, от рождения наделенный обостренным чутьем и пытливой догадливостью, и, наконец, сам Иннокентий Павлович, всегда и во всем полагающийся на чутье Абгарыча, относились ко всей этой истории — не предполагая, что то лишь всего-навсего предыстория, присказка, увертюра к вагнеровским леденящим кровь литаврам и турецкому барабану, — на диво легкомысленно и с уверенностью, что, по выражению Абгарыча, нелепейший этот анекдот рано или поздно «устаканится». Не будет же всесильное государство и, прямо скажем, не в лучшие свои времена рубить под корень одну из самых благополучных и на самом пике своего расцвета могучую корпорацию из-за каких-то графских руин с клочком земли вокруг!
Все дело разрешилось бы мигом, был твердо убежден Левон Абгарович, если бы удалось найти в державных эмпиреях нужного человека с широким взглядом на вещи и, главное, с твердо, но и разумно установленной суммой наличными за куртажные и прочие миротворческие услуги. Надо лишь не ошибиться адресом и количеством нулей.
Одна только Катя, с общего согласия триумвирата, пребывала в полном неведении и вообще была отстранена ее же покоя ради от участия в каких бы то ни было делах банка. В ее епархию, на началах полной самостоятельности, входило лишь то, что касалось премии «Русского наследия», а это стало теперь делом неблизкого будущего. Одна Катя, с ее вечным и непреложным «о'кей», в который она веровала от младых ногтей, как чукча какой-нибудь в камлания шамана, пребывала в постоянно радужном и счастливом состоянии духа, совершенно не догадываясь о грозящем «Русскому наследию» светопреставлении.